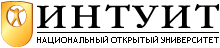|
И в 1-м и во 2-м тестах даются вопросы последующией темы. Следует пройти полностью курс, затем вернуться к тестам? |
Просвещение
5. Анализ корреляции факторов политического устройства и их стержневого смысла - "духа законов". Дальнейшая критика деспотии и политического рабства
Следующий шаг Монтескье в исполнении заявленной им самим программы исследований - это уяснение условий, которые являются причиной разнообразия форм правления и присущего им духа. В данном отношении главная идея мыслителя состоит в том, что такая причина заключена в природе - в географической среде, с одной стороны, и в естестве человека (каждая форма правления "использует" какие-либо свойства), с другой. При этом человеческая природа оказывается поливекторной и неоднозначной. Но одновременно возникает вопрос о критерии сравнения различных форм правления; в данном отношении Монтескье считает, что природа человека, поскольку она широка и богата, больше соответствует полиморфным политическим образованиям - республике и аристократии - и в меньшей монархии, которая редуцирует это разнообразие.
NB.:Монтескье выступает в двух ипостасях одновременно: как мыслитель, устанавливающий функциональное соответствие политических, социальных, естественных факторов и отнюдь не склонного морализировать по этому поводу, - и как европоцентричный мыслитель, следующий схематизму оценки нового времени, ставящей во главу угла свободу (причем понятие свободы приобретает у него иную интерпретацию и исторически уточняется в сравнении с предшественниками). Так или иначе он все-таки проводит оценочное сравнение и осуществляет моралистическую критику деспотии.
Каждая из форм правления опирается на определенную систему воспитания. Деспотия культивирует дух рабства, унижая человека. Безоговорочное повиновение предполагает глубокое невежество как в том, кто повинуется, так и в том, кто повелевает: ему незачем размышлять и обсуждать, а достаточно приказать. Поэтому для народов робких, невежественных, угнетенных не нужно много законов; тут все должно держаться на двух, трех идеях - новых и не требуется: обучая чему-нибудь животное, надо более всего остерегаться менять учителей, уроки и приемы обучения. Вы запечатлеваете в мозгу два-три движения - не больше. Дух дрессуры исключает стремление к величию и славе; здесь не может быть никакой законосообразной преемственности, вообще какой-либо законосообразности, так как в лице правителя соединены и законы, и государство, и государь. Политика, ее средства и ее законы являются здесь в виде очень ограниченном, и политическое управление тут столь же просто, как и гражданское. Все сводится к тому, чтобы объединить политическое и гражданское управление с домашним. Охрана государства сводится к охране государя, точнее дворца, где он находится безвыходно. Если принцип деспотии - страх, то его цель - тишина; но это не тишина мира, а затишье города, ожидающего вступления неприятеля. Деспотия стремится к автаркии, а в определенном смысле даже к самоуничтожению, и более всего тяготит самое себя: сила государства заключена в войске, которое необходимо для внешней и внутренней защиты; но само войско страшно государю; безопасность государства согласуется в этом случае с безопасностью государя путем уничтожения определенной части самого себя (Монтескье приводит в качестве примера уничтожение стрельцов Петром I). Самое лучшее положение для такого государства будет то, при котором оно как бы существует одно на свете. Деспотия, нивелируя и упрощая социокультурное пространство, разрушает социальные связи, обездвиживает людей, лишая их инициативы. Сосредоточение земельной собственности в одних руках ведет к тому, что земли перестают обрабатываться; торговая монополия разрушает финансы и промышленность. В таких государствах ничего не исправляют, ничего не улучшают; дома строятся там лишь на время жизни их владельца, там извлекают из земли все, что она может дать, и ничего не отдают ей обратно; там все запущено, везде пустыня.
NB.: Э.Ю. Соловьев пишет, комментируя критику деспотизма у Монтескье, что в государстве, "где право является просто кодифицированной волей правителя", неограниченная уголовная репрессия "подавляет не столько преступную волю, сколько свободную волю вообще", и именно поэтому слава "этого общества постепенно меркнет, а богатство оскудевает".
Из этого Монтескье делает два принципиально важных вывода. Первый: деспотия деформирует человеческую природу, упрощая и нивелируя ее; но и держится она за счет этой простоты. Второй: более сложная, или "политическая" система предполагает необходимость баланса сил властей, а также правовую универсальность политического и гражданского законодательства.
Возникает мысль, говорит Монтескье, что "человеческая природа будет постоянно возмущаться против деспотического правления. Однако, констатирует он, несмотря на любовь людей к свободе, несмотря на их ненависть к насилию, большая часть народов все же подчинилась деспотизму". По его словам, нетрудно понять, почему это произошло: чтобы образовать умеренное правление, надо уметь комбинировать власти, регулировать их, умерять, приводить их в действие, подбавлять, так сказать, балласту одной, чтобы она могла уравновешивать другую; это такой шедевр законодательства, который редко удается выполнить случаю и который редко позволяют выполнить благоразумию. Напротив, деспотическое правление, так сказать, само бросается в глаза; оно повсюду единообразно, и так как, чтобы установить его, не нужно ничего, кроме страстей, то на это всякий пригоден.
Но отсюда же вопрос - в продолжение темы "натурализации" деспотизма и других форм правления (однако теперь речь идет не о свойствах человеческой натуры, а о частях света): почему натурализация деспотизма свойственна прежде всего Азии?
Ответ на данный вопрос для Монтескье очевиден: в различных географических обстоятельствах преимущество получают те или иные черты человеческой психики. В жарком климате, где обычно утверждается деспотизм, страсти пробуждаются раньше и раньше затихают, умственные способности раньше достигают зрелости.
В деспотических государствах власть монополизирована, она не может быть распределена и уравновешена. Но уже в монархии власть не передается в ... непосредственной полноте; передавая власть, государь ограничивает ее.
Деспотия предполагает чиновничью иерархию абсолютных властных полномочий. В этом государстве власти не могут быть уравновешены - как власть последнего чиновника, так и власть самого деспота. Закон в деспотии иррационален, это - произвол государя, а равным образом и последнего чиновника. В умеренных государствах закон везде разумен, он всем известен, и самые низшие должностные лица имеют возможность руководствоваться им. Но при деспотическом правлении, где закон есть воля государя, как бы ни был мудр этот государь, чиновник все-таки не может руководствоваться его волей, потому что не может знать ее, и потому он руководствуется собственной волей.
В деспотическом государстве нет граждан; высший здесь не имеет никаких обязательств перед низшими; здесь люди думают, что единственная связь между ними состоит лишь в карах, которые одни налагают на других.
Монарх, знающий положение каждой из своих провинций, может создавать различные законы и допускать существование разнообразных обычаев, но деспот ничего не знает и ни за чем не может следить; его приемы всегда одинаковы; он всем управляет своею суровою волею, которая всюду одинакова; все уравнивается под его стопами.
Итак, общим знаменателем конкретно-исторического содержания и главным основанием того или иного социально-политического способа жизни (как синтетического единства принципов, природы правления и законов, религии и т.д.) является то, что Монтескье называет общим духом народа, духом нации. Речь идет о многофакторной корреляции, обладающей историческим кумулятивно-смысловым эффектом.
Многие вещи управляют людьми: климат, религия, законы, принципы правления, примеры прошлого, нравы, обычаи; как результат всего этого, образуется общий дух народа, утверждает мыслитель.
В результате использования понятия "дух народа" фактически становится возможной постановка проблемы определения индивидуальных черт национальной политической культуры. Равным образом создаются предпосылки для внеоценочного подхода к особенностям той или иной политической культуры. Ведь общий дух нации - смысловая доминанта, которую бессмысленно "исправлять", невозможно модифицировать искусственным образом.
Монтескье полагает, что законодатель должен сообразовываться с народным духом, поскольку этот дух не противен принципам правления, так как лучше всего мы делаем то, что делаем свободно и в согласии с нашим природным гением. Внушите дух педантизма народу, веселому по своей природе, говорит он, и государство ничего не выиграет от этого ни для своего внешнего, ни для своего внутреннего благополучия. Не мешайте же этому народу серьезно заниматься пустяками и весело - серьезными делами.
В рамках такого подхода не все политические пороки являются пороками нравственными и не все пороки нравственные являются пороками политическими. Такая постановка проблемы ведет к разделению политико-правой сферы и области морали (а также иных социально-регулятивных подсистем).
Различение нравственности и политики дополняется у Монтескье различением нравов, обычаев и правовых законов. Законы - частные и точно определенные установления законодателя, нравы и обычаи (естественно-исторические) - установления народов в целом. Отсюда следует, что изменить нравы и обычаи при помощи законов невозможно, такая попытка была бы проявлением тиранической воли; менять их надо при помощи примера, внедряя иные образцы поведения.
Между законами и нравами есть то отличие, что первые определяют преимущественно действия гражданина, регулируя внешний характер этих действий, вторые - человека, регулируя внутренние мотивы поступков. Очень часто, однако, законодатель смешивает нравы, законы и религиозные нормы.
Обычаи рабского народа составляют часть его рабства; обычаи свободного - часть его свободы.
Экскурс
Экономика (финансы и уровень благосостояния), религия, климатические условия как факторы духа законов.
Кроме вышеуказанных Монтескье рассматривает целый спектр корреляций, что позволяет ему сделать существенные для его теории выводы.
Монтескье посвящает специальное исследование анализу корреляции духа законов и денежного обращения (как элемента духа торговли). Здесь он приходит к выводу о том, что свойственные деспотическому правлению законы и дух торговли несовместимы. В качестве примера такой несовместимости он приводит опыт Московского государства: "Московия хотела бы отказаться от своего деспотизма - и не может. Торговля, чтобы сделаться прочной, требует вексельных операций; но вексельные операции находятся в противоречии со всеми законами этой страны". Вексельный курс, дающий возможность переводить деньги из одной страны в другую, противоречит законам Московии. Сама торговля противоречит этим законам. "Народ там состоит из одних рабов - рабов, прикрепленных к земле, и рабов, которые называются духовенством или дворянством на том основании, что они - господа первых. Таким образом, в Московии нет третьего сословия, которое должно состоять из ремесленников и купцов".
Рассмотрение корреляции между законами и демографией (численностью населения) выводит на проблему бедности и экономических основ благосостояния. Монтескье считает данную проблему подлежащей государственному регулированию; нравственной обязанностью политического государства является систематическая (и структурная) борьба с бедностью: "милостыня, подаваемая от времени до времени нищему, отнюдь не исчерпывает обязанностей государства: на нем лежит долг обеспечить всех граждан верными средствами жизни: пищей, приличной одеждой, таким образом жизни, который не вредит их здоровью".
Богатство государства предполагает развитую промышленность. Невозможно, чтобы среди многочисленных отраслей промышленности не было таких, которые не находились бы в плохом положении и в которых рабочие, следовательно, не испытывали бы состояние временной нужды. В этом случае государство должно оказать быструю помощь, чтобы облегчить страдания народа и предотвратить возмущение с его стороны.
Монтескье исследует также корреляцию религии (в ее вероисповедальном и культовом аспектах) и духа законов, анализирует политические функции различных религий. Монтескье исходит и приходит здесь - в рамках историко-функционального подхода - к ряду (квазипозитивистских) положений. Если рассматривать религию не доктринально, с позиций ее "истинности", а иметь в виду степень ее соответствия "целям общественного блага", то и среди "ложных религий" можно найти такие, которые, хотя и не ведут человека к загробному блаженству, но тем не менее могут немало способствовать его земному счастью.
Каковы социально-политические элементы религии, позволяющие оценивать ее с функциональной стороны?
Во-первых, вера в существование бога "полезна", так как она является нормативно-связующим элементом общества. Из понятия небытия бога вытекает понятие нашей независимости, или, если мы этого понятия не можем иметь, идея нашего бунта против него, считает Монтескье. Он утверждает, что религия в социальном смысле есть обуздывающее начало. Утверждать противное - это то же, что сказать, что и гражданские законы лишены обуздывающей силы. Изложить длинную вереницу причиненных религией страданий и не рассказать так же подробно о содеянном ею добре - плохое рассуждение против религии. Если бы я стал рассказывать о всех тех бедствиях, которые причинили человечеству гражданские законы, монархия, республиканский образ правления, я наговорил бы ужасных вещей. Даже если бы религия могла оказаться бесполезной для подданных, она оказалась бы полезной для государей, для которых, как для всех, кто не боится человеческого закона, она составляет единственную узду.
Государя, любящего религию и боящегося ее, можно уподобить льву, когда он слушается руки, которая его ласкает; государь, который боится религии и ненавидит ее, подобен дикому зверю, когда он кусает цепь, которая мешает ему бросаться на проходящих; государь, вовсе не имеющий религии, подобен ужасному животному, которое чувствует свою свободу только тогда, когда терзает и пожирает.
Итак, религия - меньшее зло, чем атеизм; поэтому несправедлив парадокс Бейля, согласно которому менее опасно вовсе не иметь религии, чем иметь дурную религию.
Религия способна гуманизировать внутригосударственные и межгосударственные, международные отношения. Это зависит, в частности, от того, насколько неавторитарна или авторитарна сама религиозная доктрина - и в этом смысле возможна шкала сравнительных оценок социально-политической приемлемости различных религий. Европа должна быть благодарна преобразившему ее гуманистическому потенциалу христианства, который выявляет простое сравнение языческих и христианских времен. Если мы обратим внимание, с одной стороны, на беспрестанные умерщвления греческих и римских государей и вождей, а с другой - на истребление народов и городов теми же вождями, вспомним Тимура и Чингисхана, опустошивших Азию, то увидим, что мы обязаны христианству таким политическим правом во внутреннем правлении и таким международным правом во время войны, за которые человеческая природа не может быть достаточно признательной.
Существует также шкала соответствия различных религий различным гражданским порядкам и формам правления. Так, ислам соответствует деспотии; протестантизм (кальвинизм в большей степени, чем лютеранство) - преимущественно республиканскому строю, католичество - монархии. Когда христианскую религию постигло разделение на католическую и протестантскую, северные народы приняли протестантизм, южные же остались католиками. Причина этого в том, что у северных народов существует дух независимости и свободы, не свойственный южанам. В странах, где утвердилась протестантская религия, перевороты совершались также согласно с их политическим строем. Лютер, имевший на своей стороне могущественных государей, не мог бы заставить их признать церковный авторитет лица, не облеченного внешними преимуществами власти. Кальвин же, на стороне которого находились жители республики или граждане, оттесненные на задний план в монархиях, легко мог обойтись без преимуществ и высших чинов.
Религии различаются своим мироустроительным потенциалом - степенью и характером ориентации на благоустройство социально-политического мира. Монтескье, если и противопоставляет, как мы видели выше, дух торговли и евангельскую мораль, то все же подвергает христианство истолкованию в духе раннебуржуазного мироустроительного активизма. "Христианская религия, говорит он, повелевающая людям любить друг друга, желает, конечно, чтобы всякий народ имел наилучшие политические и гражданские законы, потому что после нее они составляют величайшее благо, какое только человек может дать и получить". Более того, Монтескье считает, что культивируемые христианством добродетели могут быть основой политического организма более совершенного, чем существующее государства. Бейль, с его точки зрения, совершенно неправомерно утверждает, что истинные христиане не в состоянии основать жизнеспособное государство. "Почему же нет? - спрашивает Монтескье. - Это были бы граждане, превосходно понимающие свои обязанности и прилагающие все старание, чтобы их выполнять. Христианские начала, глубоко запечатленные в их сердцах, были бы несравненно действеннее ложной чести монархии, человеческих добродетелей республик и раболепного страха деспотических государств".
По Монтескье, существует также и шкала мироустроительной активности религий, согласно которой наименее функциональны в политическом отношении созерцательные религии. Так как назначение людей состоит в том, чтобы сохранять себя, питать, одевать и принимать участие в общественной деятельности, то религия не должна слишком поощрять их к созерцательной жизни. По той же причине следует, чтобы покаяние сопровождалось идеей труда, а не праздности, идеей добра, а не чего-то необыкновенного, идеей воздержания, а не корысти.
Наконец, наиболее эффективной в смысле поддержания общественной морали окажется религия, имеющая личностно-интровертную ориентацию (речь идет не обязательно о христианстве). Речь идет о такой религии, которая охватывает все страсти; которая одинаково ревниво относится как к действиям, так и к желаниям и помыслам; которая связывает нас не немногими цепями, а бесчисленными нитями; которая отвергает человеческое правосудие и вводит новое; которая по природе своей постоянно ведет от раскаяния к любви и от любви к раскаянию; которая между судьей и преступником ставит великого посредника, а между праведником и посредником - великого судью, - такая религия не должна допускать неискупимых преступлений. И хотя эмоциональной основой духовной жизни в рамках подобной религии является страх и надежда (люди, по замечанию Монтескье, очень склонны к надежде и страху; религия без рая и ада не может им понравиться), она все-таки дает чувствовать, что если и нет преступления, по природе своей неискупимого, то таким преступлением может стать вся жизнь человека; что очень опасно испытывать божественное милосердие все новыми преступлениями и новыми просьбами о прощении. Мера, позволяющая определять степень социально-политической пригодности различных религий, избирается Монтескье на том основании, что, по его мнению, эмоциональные источники религии - страх и надежда - совпадают с мотивами, связующими людей в гражданское общество.
По мнению Монтескье, та или иная степень эффективности в реализации религией ее социально-политической функции коррелирует с характером гражданского законодательства. Он утверждает, что, поскольку религия и гражданские законы должны главным образом стремиться к тому, чтобы делать людей добрыми гражданами, то, следовательно, если первая уклоняется от этой цели, вторые должны сильнее к ней стремиться, и наоборот; другими словами, чем меньше обуздывающей силы в религии, тем более должны обуздывать законы. Так, по словам Монтескье, в Японии, где господствующая религия почти не имеет догматов и не обещает ни рая, ни ада, законы, чтобы восполнить этот недостаток, отличаются крайней строгостью и соблюдаются с необыкновенной строгостью; с другой стороны, душевная лень породила магометанское учение о предопределении, которое, в свою очередь, порождает душевную лень; говорят: так определено богом - тут делать нечего! - в таком случае людей, усыпленных религией, должен будить закон. Вообще же самые истинные и самые священные догматы могут иметь очень дурные последствия, если они не приведены в связь с общественными началами; наоборот, наиболее ложные догматы могут иметь превосходные последствия, если они находятся в согласии с этими началами.
Потребность в регуляции соотношения религиозных и общественных начал предполагает возможность восполнения в гражданском законодательстве тех "пробелов", которые содержатся в догматически-нормативной базе религиозных законов и заповедей. Для Монтескье это предполагает необходимость отделения государства от церкви и соблюдения свободы совести в политических обществах. В данном отношении Монтескье разводит религиозные законы и нормы морали и политики. Он использует для этих целей (очевидно, заимствуемое у Гоббса) различение между советом и правовым предписанием. Человеческие законы, говорит он, обращающиеся к уму, должны давать предписания, а не советы. Религия, обращающаяся к сердцу, должна давать много советов и мало предписаний. Разнонаправленность религиозных и гражданских норм (обращенность одних - к душе, других - к разуму) приводит к необходимости их строгого разграничения в законодательной практике. В политико-правовом отношении законы государства универсальны, законы религии - нет. Законы религии более величественны, законы гражданские обладают большей широтой. Религиозные законы совершенства имеют в виду не столько качества общества, в котором они соблюдаются, сколько качества отдельного человека; гражданские законы, напротив, имеют в виду прежде всего нравственное достоинство людей вообще, а не достоинство отдельного человека.
Из этого следует правовой принцип веротерпимости. Если государство признает терпимыми многие религии, оно должно обязать эти последние соблюдать терпимость и по отношению друг к другу. В целом же не следует ни делать предметом постановлений божественного закона то, что относится к законам человеческим, ни решать посредством человеческого закона то, что подлежит законам божественным.
Наконец, Монтескье рассматривает корреляцию между духом законов и свойствами климата. Как уже говорилось, Монтескье считает одним из определяющих факторов духа законов географическую среду и, в частности, климат. Он основывает свою точку зрения на факте простого физиологического наблюдения за фактурой вкусовых рецепторов овечьего языка: при замораживании бугорки, кисточки и пирамидки съеживались, при оттаивании развертывались. Отсюда следующий простой вывод. В холодных климатах чувствительность человека к наслаждениям должна быть очень мала, она должна быть более значительна в странах умеренного климата и чрезвычайно сильна в жарких странах. Подобно тому, как различают климаты по градусам широты, их можно было бы различать и по степеням чувствительности людей. Я видел оперы в Италии и Англии: те же были пьесы и те же актеры, но одна и та же музыка производила на людей обеих наций столь различное впечатление, так мало волновала одну и приводила в такой восторг другую, что все это казалось непонятным.
Из этого общего положения, в свою очередь, нетрудно вывести ряд следствий, связанных с необходимым для индивидуализирующего исторического метода Монтескье понятием "национальный дух", - как фиксацией реальности, детерминирующей целостность комплекса национальной (шире - этногеографической) политической культуры. "В северном климате, - утверждает Монтескье, - вы увидите людей, у которых мало пороков, немало добродетелей и много искренности и прямодушия. По мере приближения к югу вы как бы удаляетесь от самой морали: там вместе с усилением страстей умножаются преступления, и каждый старается превзойти других во всем, что может благоприятствовать этим страстям. В странах умеренного климата вы увидите народы, непостоянные в своем поведении и даже в своих пороках и добродетелях, так как недостаточно определенные свойства этого климата не в состоянии дать им устойчивость".
Народы жарких стран, в том числе народы Востока, в высшей степени чувственны, более ленивы умом и телом, бездеятельны, созерцательны, мало способны к подвигу, усилию преодоления, самообладанию - и потому неподвижны, аисторичны. Душа их, раз восприняв те или иные впечатления, не может более изменить их. Вот отчего законы, нравы и обычаи остаются и теперь на Востоке такими, какими они были тысячу лет назад. Индийцы полагают, что покой и небытие составляют основу и конец всего существующего. Таким образом, полное бездействие является для них самым совершенным состоянием. Они дают верховному существу название неподвижного. Жители Сиама считают, что высшее блаженство состоит в том, чтобы не быть обязанным приводить в движение свое тело.
Именно климатогеографическими причинами прежде всего обусловлена как тяга к рабству, так и приверженность свободе.
В целом рабство противно природе и разуму, так как все люди рождаются равными; поэтому попытки оправдания рабства соображениями человеколюбия (в объяснениях римских юристов) не более добросовестны, чем телеологическо-апологетические схемы рассуждения вроде следующей: народы Европы, истребив народы Америки, были вынуждены обращать в рабство народы Африки, чтобы заставлять их расчищать обширные земли Америки.
И все же рабство должно быть основано на природе вещей. Одна из его причин состоит в том, что при определенных социальных условиях (например, московиты очень легко продают себя, потому что их свобода ничего не стоит) человек делает свободный выбор, отыскивая себе господина; рабство, таким образом, является следствием взаимного соглашения обеих сторон. Это - причина так называемого "умеренного рабства". Но причина "жестокого рабства" - в жарком климате. Есть страны, жаркий климат которых настолько истощает тело и до того обессиливает дух, что люди исполняют там всякую трудную обязанность только из страха наказания. В таких странах рабство менее противно разуму; и так как там господин столь же малодушен по отношению к своему государю, как его раб по отношению к нему самому, то гражданское рабство сопровождается в этих странах политическим рабством.
В принципе же рабство, как и деспотия, натурализовано лишь в нескольких отдельных странах. В других же местах, как бы ни были тяжелы отдельные виды необходимых работ, они могут выполняться свободными людьми. И вообще нет такого климата на земле, где труд не мог бы быть свободным, если этим трудом управляет разум человека, а не его жадность, поскольку рабство человека может быть заменено рабством машины. Гот Иордан назвал север Европы фабрикой человеческого рода. Я бы скорее назвал его фабрикой орудий, которыми сокрушают выкованные на юге цепи.
Является ли рабство социально эффективным институтом? Ответ Монтескье на этот вопрос может быть интерпретирован следующим образом. Сам вопрос имеет две стороны - функциональную и морально-правовую. В последнем смысле слова мнение о том, что было бы хорошо, если бы у нас были рабы, коль скоро достало бы решимости решить жеребьевкой вопрос о принадлежности части свободного общества к числу рабов, заставило бы с ужасом отшатнуться от идеи пользы рабства всех тех, кто о ней толкует, - т.е. гражданское равенство как необходимый спутник свободы есть непреодолимый барьер в сознании членов политического общества; поэтому можно сформулировать следующее положение: кто сомневается, что каждый отдельный человек очень охотно стал бы господином имущества, чести и жизни других людей, что при одной мысли об этом пробуждаются все его страсти? Но, чтобы установить в делах этого рода, законны ли желания каждого, необходимо рассмотреть желания всех.
Если же говорить о первом аспекте вопроса, то надо иметь в виду, что существует два основных вида рабства - реальное (прикрепляющее человека к земле поместья) и личное (связанное с домашним хозяйством и привязывающее к личности господина). Рабство сопряжено с величайшими злоупотреблениями, если оно является одновременно и реальным, и личным, - таким, например, было рабство илотов у македонян. Дело в том, что разум требует, чтобы власть господина не простиралась далее требования необходимых для него услуг; рабство должно служить пользе, а не сладострастию.
Большое количество рабов приводит к различным последствиям при различных формах правления, так как там пользуются различными мерками человечности. Для деспотии оно не составляет проблемы: из-за отсутствия политической свободы, свойственного этому строю, рабство там ощущается слабо; те, кого там называют свободными людьми, не более свободны, чем те, кто не имеет этого почетного наименования. В государстве же с умеренным правлением политическая свобода придает огромное значение свободе гражданской; там, кто лишается последней, утрачивает и первую". "Ничто так не приближает человека к животным, как то положение, при котором он всегда видит свободных людей, а сам остается рабом. Такие люди - естественные враги общества". Именно поэтому в умеренных государствах часто происходили восстания рабов, тогда как для деспотических государств это редкое явление.
Еще одна естественная причина рабства в Азии - преимущественно равнинный характер государств последней, причем сами равнины там гораздо обширнее, чем в Европе. В Азии всегда были крупные империи, которые не могли удержаться в Европе. Дело в том, что в известной нам Азии равнины гораздо обширнее и она разрезана горами и морями на более крупные области. Поэтому власть в Азии должна быть деспотической. А если бы там не было наблюдаемого нами крайнего рабства, то в ней очень скоро произошло бы разделение на более мелкие государства, несовместимые, однако, с естественным разделением страны. В Европе же в силу ее естественно-географического разделения образовалось несколько государств средней величины. Здесь правление, основанное на законах, отнюдь не противоречит государству, но, напротив, оно исключительно благоприятно в этом отношении. Именно это и образовало тот дух свободы, благодаря которому каждая страна в Европе с большим трудом подчиняется посторонней силе, если эта последняя не действует посредством торговых законов и в интересах ее торговли.
Напротив, в Азии царит дух рабства, который никогда ее не покидал; во всей ее истории невозможно найти ни одной черты, знаменующей свободную душу; в ней можно увидеть только героизм рабства.