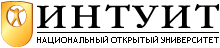|
И в 1-м и во 2-м тестах даются вопросы последующией темы. Следует пройти полностью курс, затем вернуться к тестам? |
Немецкая классическая философия
7. Право гражданина мира. Учение о вечном мире
Космополитическое утверждение Кантом на вершине своего правового учения прав гражданина мира совершенно не случайно, так как он последовательно исходит из правового стандарта, в основу которого полагает нормативное понятие нравственно-автономной личности как самозаконодательствующего - и вследствие этого правомочного - субъекта.
По той же причине для него идея мирной, хотя еще не дружеской, общности всех народов земли без исключения, которые могут вступать друг с другом в полезные отношения, - вовсе не человеколюбивая (этическая) идея, а правовой принцип.
Именно главенство вышеуказанного правового принципа служит источником запрета на применение силы в столкновении интересов народов, принадлежащих к различным стадиям развития, - различных культур (в том числе и внутри одной нации) и цивилизаций, - как бы мы могли выразиться более современным языком, - хотя бы в пользу силовых решений и приводились различные, на первый взгляд весьма правдоподобные основания.
Экскурс
В качестве примера столкновения интересов Кант рассматривает территориальные проблемы, возникающие при освоении народами новых земель, выбирая отправной точкой для рассуждения колонизацию Америки. Он говорит: "Когда заселение происходит в такой отдаленности (коренных и некоренных народов друг от друга. - А. Ч.) ... что ни один из них, пользуясь своей землей, не причиняет другому ущерба, то в праве на такое заселение не приходится сомневаться; но если это пастушеские или охотничьи народы (как, например, готтентоты, тунгусы или большинство американских народностей, пропитание которых возможно только при наличии обширных необитаемых территорий), то такое заселение может произойти не с помощью силы, а по договору, и при заключении самого этого договора нельзя пользоваться неосведомленностью коренных жителей в вопросе об уступке подобных местностей; хотя оправдательные причины достаточно правдоподобны, чтобы такого рода насилие казалось служащим для блага мира - отчасти тем, что дикие народы приобщаются к культуре (таков, например, предлог, с помощью которого даже Бюшинг хочет оправдать кровавое введение христианства в Германии), отчасти же ради очищения своей собственной страны от негодных людей в надежде на исправление их или их потомства в другой части света (например, в Новоголландии), тем не менее все эти мнимо добрые намерения не могут смыть пятно несправедливости применяемых при этом средств. Если же на это возразят, что при таких сомнениях в допустимости силой устанавливать состояние законности, быть может, вся земля до сих пор оставалась бы в состоянии беззакония, то такого рода возражение так же мало может уничтожить указанное правовое условие, как и предлог, который выдвигают революционеры, выступающие против государства, а именно, что когда государственный строй негоден, народу следует преобразовать его силой и вообще раз ... проявить несправедливость, дабы потом тем прочнее была установлена и процветала справедливость".
Итак, реальность права идеальна, но без нее невозможен правопорядок. Таков смысл кантовского априоризма в политико-правовой теории - как раздела метафизики нравов. Точно так же как безусловна мораль, законом которой является категорический императив, повеление незаинтересованного, свободного от любых соображений пользы исполнения своего долга, так и право, законом которого является справедливость (каждому - свое), есть неукоснительное следование данному правилу вне зависимости от обстоятельств, лиц и социальных интересов, в том числе и от интересов общественного прогресса. Право обладает особой реальностью, выступает в качестве безусловной духовной ценности. Эта мысль, являющаяся одним из постулатов политико-правовой теории Просвещения (у Монтескье, Руссо, Канта), приобретает у последнего новые черты: идея реальности права основывается на конструкции морального суверенитета личности.
И все-таки кантовская теория ставит на выходе проблему целевого смысла, назначения права и политики. Способ решения этой проблемы - моралистическая теория вечного мира. Хотя Кант и утверждает, как мы видели, что идея вечного мира не является идеей этической, а представляет собой правовой принцип, но одновременно он выдвигает в рамках программы достижения состояния вечного мира идею отказа от прагматического целеполагания в области политики, т.е. снятия самой политики как способа мышления и действия (идея, в дальнейшем получившая развитие у Гегеля и Маркса).
Кант рассуждает следующим образом. Идея вечного мира не просто норматив, но и необходимый вектор исторического развития, заданный естественными условиями существования человеческого рода. Это так, поскольку общность земли как территории, на которой проживают различные народы, составляющие в совокупности человечество, необходимо ведет к установлению общности между ними в социальном отношении: Природа заключила все эти народы (в силу шарообразности заселяемого ими пространства ...) в определенные границы ...; отсюда - неизбежность их соприкосновения и общения и всесторонних отношений между ними (причем моря не столько разделяют народы, сколько служат интенсификации их взаимоотношений); отсюда - право гражданина мира (jus cosmopoliticum), имеющее в виду возможное объединение всех народов для [установления] определенных всеобщих законов их возможного общения. Но отсюда же - из правовой потребности всеобщего мира - задача достижения реальности состояния мира и международного правопорядка - как нравственная цель. Речь идет не о прагматической (чисто технической) цели, а именно о цели моральной, т.е. такой, поставить перед собой которую есть максима, а сама максима есть долг; поэтому речь не идет о достижимости данной цели, но наш долг здесь - поступать в соответствии с идеей этой цели, если даже нет ни малейшей теоретической вероятности того, что цель эта будет достигнута.
Согласно учению о праве, эта цель состоит в том, что мы должны поступать так, как если бы было реально то, чего, быть может, нет, должны содействовать обоснованию его и принятию такого строя, который представляется нам для этого наиболее пригодным (может быть, республиканизм всех государств вместе и каждого в отдельности), дабы установить вечный мир и положить конец преступной войне, на которую до сих пор как на главную цель были направлены внутренние устроения всех без исключения государств.
Таким образом, оказывается, что установление всеобщего и постоянного мира составляет не просто часть, а всю конечную цель учения о праве в пределах одного лишь разума; ведь состояние мира - это единственное гарантированное законами состояние моего и твоего среди множества живущих по соседству друг с другом людей, ... существующих вместе при одном государственном строе.
Конечной целью права является благо - установление справедливости во всемирном масштабе, политическое (республиканское) мироустроение, которое заключается в вечном мире. Речь идет об априорном регулятиве, теоретически (что соответствует "научной" методологии нового времени в целом) исчисляемом и задаваемом в качестве прецизионного стандарта и образца, парадигмы действия (Это, однако, не "статуарная" цель-благо, имеющая онтологический статус, согласно античной, раннехристианской и средневековой мысли). Данный стандарт внеопытен и надопытен, подобно тому как не существующие в природе стандарты мер длины, веса, времени. Кант говорит, что правовая идея, правило, которым должно руководствоваться правосознание, должно быть заимствовано не из опыта других людей (которым до сих пор удавалось наилучшим образом им пользоваться) в качестве нормы для других, а вообще a priori заимствовано разумом из идеала правового объединения людей под публичными законами, ибо все примеры обманчивы (они могут лишь пояснять, но ничего не могут доказать) и, таким образом, нуждаются в метафизике, необходимость которой неосторожно признают даже те, кто над ней смеется, когда, например, как это часто бывает, они говорят: "Наилучший строй тот, где власть принадлежит не людям, а законам". В самом деле, что может быть более метафизически сублимированным, чем именно эта идея, которая все же в соответствии с их собственным утверждением обладает самой верной объективной реальностью, легко обнаруживаемой и в происходящих случаях, и которая единственная - если только ее испытывают и проводят не революционным путем, скачком, т.е. насильственным ниспровержением существовавшего до этого неправильного строя (ибо в этом случае вмешался бы момент уничтожения всякого правового состояния), а путем постепенных реформ в соответствии с прочными принципами - может при непрерывном приближении привести к высшему политическому благу - к вечному миру.
Итак, за вечным миром как высшим политическим благом проглядывает моральная цель - свобода от таких политических средств, как военная сила (война - неправовое средство). Но мы вправе также спросить, какова цель справедливости и правовой свободы. Ответ на данный вопрос выходит за рамки правовой теории и касается уже философии истории. Если целью политики является свобода (практически реализуемая вместе с установлением республиканского строя как адекватного правовой идее порядка), то сама цель моральной свободы (а вместе с нею и права, и политики) может быть раскрыта только в совокупном историческом опыте человечества - в рамках его далеко не завершенной исторической практики: каждый раз преодолевая все более высокую планку моральной свободы-долга человек, по-видимому, может так сильно оттолкнуться от "грешной земли" (мира необходимости, причин и следствий), что однажды может не вернуться в этот мир, очутившись в "царстве свободы". Политика, таким образом, - это инструментальная область (сфера прагматических действий и условных императивов), имеющая, однако, идеальную сверхзадачу, выходящую за обусловленные ее функциональным характером рамки.
Как видим, Кант остается верен общей для новоевропейского мышления "перспективистской" парадигме: политическая перспектива для него - всеобщий республиканский строй и вечный мир как правовое международное состояние; за этим рубежом открывается еще одна, общеисторическая перспектива, обрамленная горизонтом свободы.